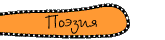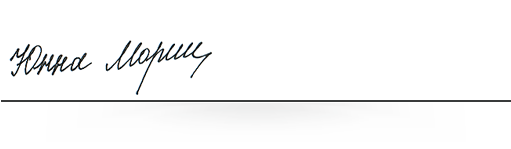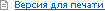Всадник Алеша
Лошадь шла весело и легко, поднимая горчичную пыль. Подросток, сидевший верхом, рассматривал горы в морской бинокль. Краснокожий, с узким скуластым лицом, был он похож на индейца. Тугая повязка вокруг головы сдерживала длинную черную гущу над бронзовым лбом. Всаднику было на вид лет тринадцать-четырнадцать. Во всем его облике наблюдалось достоинство натуры, мыслящей самостоятельно и привыкшей изъявлять свою волю. Сейчас он ехал в гости к отцу, у которого была другая семья и новый сын.С утра просочился дождь и жара поутихла. Три ветра - горный, степной и морской - шуршали теперь в пузырчатых виноградниках, остывая от многодневного крымского зноя и остужая воздух, землю и все, что на ней. А в бинокле скакали горы, и там скакали на выпасе коровы и овцы. А ниже, в горных расселинах, скакали белые, как брынза овечья, сакли. "Хорошо, что отец купил себе саклю,- подумал Алеша,- ведь в сакле я никогда еще не был и, может быть, не был бы никогда. Эту саклю сложили в Крыму, лет сто назад, из дикого горного камня, всей семьей - четверо взрослых и девять детей. Летом сакля - прохладная, а зимой там теплынь, если печку топить. И гора заслоняет ее от ветра, дождя и снега. Стены в той сакле - толстенные, но звонкие и поющие. Потолок низкий, а скажешь громкое слово - и во всех углах будет трижды оно звенеть утихающим пеньем. Интересная вещь!"
Алеша не видел отца три года, но любил его вечно и боль обиды своей загнал глубоко, на самое дно души, чтобы не было слышно и видно, как - был он уверен! - это делают умные, сильные люди мужского пола. Он отказался, когда отец захотел приехать за ним на машине. Во-первых, путь был недалек и нетруден. Во-вторых, непременно полагалось быть этой встрече не в начале пути, а в конце. И по этому случаю написал Алеша заявление начальнику спортивного лагеря: "Прошу выдать мне на дорогу одну лошадь сроком на три дня для поездки по семейным обстоятельствам". Заявление показалось Алеше смешным, но зато по форме, которую он когда-то углядел и запомнил.
Начальник спортлагеря, где отдыхал Алеша, был молод и груб. Он только что закончил институт и получил впервые работу с зарплатой. Разные, очень смешные и очень страшные истории о том, как держать дисциплину, готовую ежесекундно сорваться в пропасть анархии и всевозможного буйства, а также рухнуть с издевательским хохотом, свистом, топаньем и улюлюканьем в бездну неукротимого произвола, слышал он многократно от матери и от других воспитателей - мастеров находчивой строгости. Сам же он с детства и на всю жизнь полюбил только строгих и себя воспитал строжайше быть начеку и беречь справедливую, полезную строгость как зеницу ока. Любил он строгие книжки, строгие песни и кинофильмы. И танцы любил, но только строгие. Его мама была самой строгой учительницей в школе. И он за это ее обожал и втайне гордился, когда его однолетки вытягивались перед нею и замирали...
Но выдал он Алеше на дорогу одну лошадь сроком на три дня - безо всяких казенных отговорок и усмешливых вопросов. Потому что за всей его сиротской любовью к строгости таилось человечески слезное страдание, детская неусыхающая тоска по веселому летчику, который двадцать лет назад - раз и навсегда улетел из домашней казармы, оставив там пятилетнего мальчика с велосипедом, лыжами, коньками, а также мячами и мячиками, так больно и звонко напоминавшими о слишком краткой жизни с родителем, которая по справедливости длилась бы... Да что теперь говорить?!
"Я прикажу конюху, завтра он даст тебе лошадь. Туда лучше ехать на лошади... это имеет вид!" - И он улыбнулся строго и строго напомнил, что положено взять Алеше на кухне сухой паек на дорогу.
Алеша ехал по Крыму на лошади и как бы совсем ни о чем не думал, только рассматривал. Фиолетовые шелковицы рассматривал в свой сильный морской бинокль, где скакали корзины яблок под яблонями, горные сакли, малахитовые навесы и колонные залы дикого винограда над столами и лавками, пестрое белье на ветру, голопузые ребятишки, кудлатые собачонки, кошки, куры, козы, бронзовые фигурки женщин, стряпающих на улице,- и все это мельтешило, дышало и трепыхалось в скалистых горах, в каменных выдолбах, на диких ступенях, под леденящими душу горными отвесами, которые были сплошь в трещинах и надломах, но почему-то на глазах не разваливались и не вселяли никакого стихийного ужаса в обитающий там народ.
Иногда Алеша рассматривал пролетевшую мимо, случайную мысль. Например: "Бабушка пришла в ужас, когда мама бросила скрипку и окончательно выбрала виолончель. Она посчитала уродством для женщины играть на таком инструменте, который стоит между ног. Как странно и даже, простите, глупо! Просто диву даешься, какие предрассудки были в прежние времена даже у весьма культурных людей. Я не хотел бы, чтобы моей мамой была моя бабушка, хоть она и профессор Земли, гор и морей. Нет уж! Я предпочитаю, чтобы меня родила виолончель, а не глобус! Внук глобуса и сын виолончели - вот я кто. А кто, интересно, папина жена?.." Тут рассматривание мысли внезапно кончалось - как драка при появлении короля. И Алеша вновь рассматривал горы с их открытой и простодушной жизнью. А лошадь шла весело и легко. И легко ей, лошади, было дышать чабрецом, и полынью, и виноградным листом, и недалекой планктоновой свежестью моря.
Так бы ехал Алеша Боткин всю жизнь, потому что втайне ему приезжать совсем не хотелось, боялось и никак не светило. Вот ехать и ехать на лошади к отцу, вдоль гор, виноградников, вдаль к отцу, на рассвете и на закате, и звездной ночью на лошади ехать к отцу - это да! Но приезжать, наконец,- это грустно, как всякий конец пути, думал Алеша безотчетно и отвлеченно.
Но вот показались приметы: родник, тополиная троица, самосвал на холме, за холмом - скала и в ней голубая сакля с верандой, побеленная известью с синькой. Алеша спрыгнул у родника, умылся до пояса, радостно фыркнул и, распрямившись в седле, стал подниматься вверх по тропе - мимо виноградника, мимо ручья, мимо разрушенной сакли, две стенки которой были распахнуты в каменные покои, в прохладные сумерки всеми покинутой жизни: такая Помпея,- подумал Алеша, миновал сад и подъехал к синей калитке.
У калитки сидел на горшке белобрысый мальчик лет пяти.
- Отличная-преотличная лошадь! Она устала-преустала с дороги. Я сейчас ее накормлю,- сказал мальчик, натягивая штаны, и побежал с горшком к обрыву, а потом спрятал горшок в кустах.
Тут и вышел отец на крыльцо веранды, обтирая ветошью руки. Он сбежал с крыльца по крутым ступенькам и помчался к Алеше, и так жарко к нему прижался, так жарко обнял, что лицо у Алеши вспотело, и он пить захотел, как лошадь, звонко и долго.
- Пить! - сказал он отцу и наклонился к эмалированному ведру с водой.
Лошадь топталась у синей калитки и ела цветы. Отец расседлал и отвел лошадь на ближнее пастбище, куда-то вверх по склону, поросшему кустами акаций.
В голове у Алеши распространялся мучительный, опустошающий звон, и
в глазах, по сине-зеленым краям кругозора забурлило волнистое серебро, как всегда у него бывало во время приступов сахарной слабости. На этот случай он носил с собой рафинад в железной коробочке из-под заморского табака. Алеша съел кусок липкого сахара и еще два куска, и ему стало полегче. Он сел верхом на лавку, огляделся, прислушался к этому миру, в котором гостил, и тайным чувством вдруг понял, что женщины сегодня здесь нет, а есть только отец и этот белобрысенький мальчик.
- Я Гриша,- сказал мальчик.- Сейчас давай будем обедать. Мы с папой наварили-нажарили-насалатили. Я голодный-преголодный! Давай оба-вместе тарелки-ложки-вилки носить.
Взбегая на крутое крыльцо, он крикнул:
- В саклю входишь - сгибайся, а то по башке шарахнет! Ты - длинный, тебя шарахнет. И меня когда-нибудь тоже!
Алеша ему улыбнулся за такие веселые мысли о будущем, которые бывали и у него, когда был он совсем еще маленький и о будущем думал, не имея понятия, сколь зависит оно от человеческой воли. Сейчас-то Алеша знал точно, что его, Алешина, воля влияет и впредь будет вовсе влиять на его, Алешино, будущее. Потому что три года назад с мыслью о том, что его отец где-то там, в своей новой жизни, родил себе нового сына, а если только захочет, то в еще более новой жизни родит еще более нового сына и так далее... ну, в общем, с мыслью об этом Алеша открыл для себя невероятную тайну будущего: все прошлое было когда-то будущим, все будущее станет когда-то прошлым во имя еще более и более будущих - была б только сильная воля у человека. Так думал подросток, сгибаясь при входе в саклю. Там было две комнатки - одна через другую, и лилась по стенам прохладная мгла, и потолок был низок и толст, как в келье. Слева белела крепкая печь, за летней ненадобностью накрытая плахтой и заставленная разными книгами. В дальней комнате - во всю стену - был серый грубошерстный ковер с тремя летящими цаплями, розовато-синими.
- А-а-а! - сказал Алеша, и сакля запела.
- А-а-о-о-у-ум-м! - и сакля звонко, протяжно зевнула, как сонная пума.
Кровати, буфет и всякое такое Алеша разглядывать не стал, а быстро взял чугунную жаровню с мясом, тарелки, ложки, вилки, стаканы - и вышел.
Гриша притащил миску с салатом, батон и вынул из-под куста прохладный кувшин с тутовым морсом. Вернулся отец, достал из погреба сыр, соленые огурцы и великий арбуз.
- Какой ты красивый, Алеша!.. Ты самый красивый мальчик на свете. Я мог бы смотреть на тебя всю жизнь! Завтра с утра мы сядем с тобой вот здесь... нет, вот здесь!.. и я напишу твой портрет. У меня загрунтован подходящий холст в мастерской,- и отец показал на дверной проем в торце голубой сакли, где шаталась от ветра шторка из крашеной марли. Он налил себе вина, а мальчикам морсу, и все трое выпили - за встречу и за долгую жизнь.
Тут в калитку просунулся потный человек в городском костюме - художник Трифон Чернов.
- Привет, старик, я у тебя сегодня ночую! Так по расписанию вышло.
А завтра - в Симферополь на самолет и прямо в столицу мира!
Он втащил два больших чемодана и этюдник, разделся и сел за стол в одних трусах.
- Я, старик, еле дышу! Давление двести двадцать на сто сорок, и пульс не меньше восьмидесяти восьми. Ты же меня знаешь, я - человек деликатный, тонкий, хорошо воспитанный. Я же слова лишнего никогда не брякну, ты же меня знаешь, я просто не умею быть хамом, даже когда это - во как нужно! Все, что я имею, даже смешно сказать, не подумай, что я хвастаюсь, старик, но все, что я имею, они принесли мне на блюдечке с голубой каемочкой, потому что я - действительно прекрасный великий художник. И в кои-то веки я прошу мастерскую на Чистых прудах,- так вместо того, чтоб меня поддержать, они поддерживают Чимкелова, этого оболтуса, которого я вскормил, вспоил и вывел в люди, старик, ты же знаешь! Мне тридцать пять, и меня покупают везде, а ему сорок пять, и его покупают только в залы общепита. Но как платят мне и как платят ему? Смешно сказать, но несравнимо! Я продал своего "Арфиста" за семьсот, а он свой "Хор скворцов" за тысячу двести!
- Да ешь ты и пей! Успокойся! Ты - чудный художник. И я всегда тебе помогу, хоть не всегда могу помочь сам себе. Чимкелов - несомненный оболтус и такой же художник, как я - балерина. Но ты, мой друг, вскормил его, и вспоил, и вывел в люди, свято надеясь, что тебя он не тронет и в грозный час защитит от других таких же оболтусов. А у него изменились планы, и он на тебя плевал. Кстати, именно потому, что знает тебя как облупленного. Никогда, Трифон, не дружи с подлецами, они ненавидят родителей, учителей, никогда не возвращают долги, незабвенно мстят за добро - и обожают, когда им дают по морде. По морде - это их как-то успокаивает и освежает. Про это много написано, ты книги читаешь?..
Алеша сидел на высокой скале, ел жаркое и видел небо прямо перед собой. Снаружи оно состояло из сине-багровых газов, из набрякших грозой облаков, золотящихся мимолетно... из птиц, обезумевших от электричества дальних летучих и жгучих молний, средь которых есть шаровые... из одуванчиков, дыма и всего, что за день туда улетело. Но внутри оно состояло из горящих камней, из раскаленных гигантских шаров, эллипсов и гремящих пустот. Там шумело сизое древо Млечного Пути, и наша Земля ползла по нему, как голубая букашка. И, холодея, сжимались какие-то звезды до размеров, в которых они предстают перед нами ночью. А другие звезды вновь разгорались, и несметные солнца ритмично пульсировали - золотые снаружи и черные в сердцевине, а другие солнца сгорали и коченели. И была среди этих миров изначальная точка - точка самодостаточности, божественная воля Вселенной, сама себя создающая и все - из себя самой. И меня, и Гришу. И отца, и мою маму... А где Гришина мама и куда она?.. Эту мысль Алеша не стал рассматривать и самозащитно вернулся на землю, где Гриша тормошил его за локоть и чем-то крайне был удивлен.
- Что ты видишь там, куда ты смотришь? - спрашивал Гриша Алешу.
Алеша улыбнулся ребенку чудесным образом, как бы из своего тайного далека, где был он за миг до того, размышляя над первопричиной всех жизней, которая так мучит подростков и всех мудрецов нескончаемой древности.
Алеша знал, что Земля и Вселенная - совсем не такие, какими они представляются житейскому глазу. Ведь у бабушки часто гостили знаменитые ученые, и к чаю они приносили невероятные, глазам не доступные новости о земле и о небе. И, хотя Алеша уже у кого-то прочел, что глаза - это часть нашего мозга, вынесенная наружу, он большей частью жил своим внутренним зрением, ему доверял все сильней. Внутренним зрением он мог останавливать образы и разглядывать их так долго, как было ему надо для усвоения сути. А при надобности, он мог также вызывать эти образы вновь и вновь, во всей их подробности и неясности, чтобы внутренним зрением в них углубиться и кое-что прояснить, а кое-что окончательно затуманить в надежде на мудрость будущего. Людям же, которые в эти времена общались с Алешей, казалось, что он спит с открытыми глазами.
- Что ты видишь там, куда ты смотришь? - снова и снова спрашивал Гриша.
- Вижу баранчика, который полез на Луну, чтобы стать кудрявым, как тучка. А там, на Луне, очередь лет на триста. Тучка займет очередь, пролетая мимо, а лет через сто плюс сто плюс сто ее очередь как раз и подойдет, когда она снова соберется из капель и мимо Луны пролетать будет. А баранчик триста лет не живет и не собирается он из капель каждые триста лет. Ему сейчас надо кудрявым стать! А тучки ему говорят:
"Если ты даже сто лет не проживешь, так зачем тебе кудри? Их ведь никто и разглядеть не успеет, зря очередь занял!"
Но тут один старый лунный фей по имени Филофей говорит:
"Нет, так дело не пойдет! Пропустить баранчика безо всякой очереди, потому что у него возраст детский, а детей по всей Вселенной без очереди всюду пускают! Тем более что он, баранчик, умрет молодым по сравнению с вами, мои красавицы!"
Тучки пошумели, погромыхали, некоторые от злости даже черными сделались, но баранчика пропустили, как ребенка, без очереди. И во-о-он там, видишь, идет кудрявый баранчик с Луны на Землю.
- Вижу. Идет кудрявый баранчик,- сказал Гриша и взял со стола большой прямоугольный пряник.- Вот смотри. Я беру этот пряник и по кусочку откушиваю. Грыз-грыз-грыз и еще с этого боку грыз-грыз, и получился у меня баранчик. Теперь тут грыз-погрыз и тут грыз-погрыз, и получилась собачка. Теперь тут угрызу уголок и там войду в середку, и получилась кошка. Теперь съем ушки и тут погрызу, и получилась курица. Из курицы только бабочка получается, из бабочки - жучок, а из жучка - вишенка. А из вишенки ничего не получается больше, поэтому я ее так просто съем, безо всякого воображения! Вообще-то, я пряники не очень люблю. Я люблю варенье, но из варенья ничего такого не получается, в нем твердости нет.
- Сейчас арбузик зарежем! - сказал Трифон и воткнул финку в белый арбузный пупок.- Мировая финка, старик, с пружиной, английская сталь, между прочим, "Шеффилд"! Мне ее Рокуэлл Кент подарил!
Арбуз развалился, обнажив красное сахарное мясо с черными зернами, в каждом из которых была до предела сжатая, тайно зарытая, втянутая в самую глубь, неукротимая воля к жизни, готовая вспыхнуть и разрастись этим красным сахарным мясом, раздувая кору зеленого шара.
- Ты - хвастун и врунишка. Рокуэлл Кент не имел о тебе ни малейшего представления. Ведь он, бедняга, посетил наши края, когда ты, Трифон, был еще скромным, воспитанным мальчиком и не сочинял о себе никакой легендарной белиберды, сфальшивленной под документ эпохи. Уж это я в нашем брате просто терпеть не могу-у-у!
- Старик, ты прав! - сказал Трифон, поникнув повинной головой.- На меня что-то нашло! Ты не поверишь, конечно... Ты, конечно, теперь ни за что мне не поверишь, но я скажу тебе всю правду. Эту финку мне подарил Булат Окуджава. Будет он выступать - подойди и спроси, он тебе подтвердит, он - человек очень славный и с юмором, он тебе скажет, как просто все это вышло. Поехал он в Англию и купил мне эту финку за три фунта на аэродроме Хитроу, где все в три раза дешевле, потому как без пошлины. Ему жутко нравятся мои картины. Иногда он приходит без звонка, сидит часами и смотрит... Песня у него есть одна замечательная. Называется "Батальное полотно". У меня две картины с таким же названием. Так вот его песня частично повторяет мое второе "Батальное полотно". Не первое! А второе, где белая кобыла с карими глазами.
Отец сквозь зубы выдохнул воздух, встал и зажег над столом китайский фонарик. Фонарик от тепла закружился и наполнился абрикосовой мякотью, разливающей прозрачный свет. Свет был такой - как будто он рос на дереве.
Гриша попросил лимонада, и Алеша, наливая ему пузырчатый крашеный напиток, вдруг вспомнил: "Лимонад делают из лимона, но лимон из лимонада уже не сделаешь никогда".
В ту минуту калитка распахнулась и вошла полная старуха в морковном халате и ситцевой кепке. Она по-свойски села к столу, съела два бутерброда с сыром, запила вином и тут же из кармана достала маленький бумажный пакетик с содой. Соду из пакетика она высыпала себе на высунутый язык и съела ее, не поморщась.
- Я, Трифончик, без соды помираю, будто в меня керосину налили, как в примус. Пш-ш-ш! - испустила она с наслаждением благотворную отрыжку.- Давай, Гришенька, спать ложиться, я за тобой пришла, тебя маменька ждет. Ты же знаешь, она без тебя во всю ночь глаз не сомкнет, таращиться будет! Идем, мой пончик, я тебе сказочку расскажу!
- Не-е-ет,- сказал Гриша, глядя куда-то в свою собственную даль,- я здесь буду спать. Я буду спать с братом. Он же приехал всего на три дня. Ты скажи маме, что три дня буду я спать здесь, с братом. А потом всю жизнь с ней.
- Гриня, мы же с тобой договаривались! Разве нет? Ты свое мужское слово держать должен! Кто свое мужское слово не держит, как надо, тот - тьфу! - инфузория! Его каждая моль в бараний рог согнет и съест в один присест.
- А бараньи рога никто не ест. Они, тетя Мотя, очень твердые и невкусные. Может, бараний рог мечтает всю жизнь, чтобы его слопали, а всем он не по зубам. Вот бедный! - увиливал Гриша от главной темы. Она, эта тема спанья непременно вблизи матери, была его мучительным детским стыдом и позором в присутствии старшего брата, которого он увидел сегодня впервые и успел полюбить - ни за что, за так, за то, что - брат, и все тут!
Отец подливал себе и Трифону чай из пузатого узбекского чайника с красно-золотыми боками. Он слушал бубненье и вопли Трифона, глядя в крепкий коричневый чай, и не обращал как бы никакого внимания на битву младшего сына с превосходящими силами противника.
Алеша встал и пошел к калитке.
- Ты куда? Я с тобой! - вдруг очнулся отец и взглядом рванулся к Алеше, не успев отереть с лица паутину какой-то немой, затаенной мысли.
Алеша ему улыбнулся. И отец улыбнулся в ответ виновато и весело. Закрывая калитку, Алеша услышал, как Гриша сказал тете Моте:
- Человек! Мы же - братья!
Алеша поднялся по склону и увидел шелковицу, где была привязана лошадь. Лошадь дремала, но, услыхав шаги, встрепенулась. Она узнала Алешу во тьме, и он дал ей три куска сахара, и сам съел три куска - ему было не по себе, на него накатила волна отвратительной слабости, лицо стало холодным и влажным. И, стараясь вернуть себе кровное тепло, которого не даст человеку никакой ни огонь, ни жар - только кровь, Алеша вдруг вспомнил вот это из "Кавказского пленника":
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром покидает он
Ночлега кров гостеприимный.
Издали видел Алеша свет китайского фонарика и саклю. Там на веранде зажгли верхний свет, и в одном из окон сакли тоже что-то затеплилось. "Свеча, может быть,- подумал Алеша,- при Пушкине были бы свечи". И он улыбнулся, потому что вдохнул глубоко и услышал, как чудно пахнет живая лошадь, живая гора, поросшая живой травой и живыми кустами живой акации, и живой шелковицей... Просто стало Алеше легче, его сердце, скачущее, как лошадь, схрупало три куска сахара и теперь мчалось дальше, весело согревая живую кровь, которая вмиг обсушила жарким ветром его лицо, орошенное смертным по Ђтом и стянутое колючим льдом.
Отец подошел, и обнял, и поцеловал Алешу в макушку. Он сказал:
- Этот тип свалился, как сковородка с гвоздя. Но завтра мы будем одни. И послезавтра мы будем одни. И я, Алеша, кое-что тебе объясню... Это ты не видел меня три года. А я тебя видел... каждый день. Где бы ни был, о чем бы ни думал... Не говоря уж о том, что я дважды в месяц езжу в командировки в Москву, чтобы глянуть, как ты там... ну, идешь в спортивную школу. Завтра! Все завтра! Завтра я напишу твой портрет! Завтра я смогу с тобой говорить о серьезных вещах... Ты даже не представляешь себе, из-за какой чепухи люди в молодости... в молодости они так беспощадны друг к другу! А в моем уже возрасте... они безгранично терпимы. Спать! Все будет завтра - и силы, и время, и слова!
Алеша пошел за отцом по узкой тропе, облитой лунным сиянием, пошел сквозь кустарник, замгленный пылью и пухом, сквозь дикий сад, отливающий черной зеленью и серебристой - с изнанки. Отец закурил, и дым его сигареты струился через плечо, на Алешу, и с каждым шагом Алеша вдыхал этот дым, хоть он ему не был сладок. Но кто-то устроил так, что выдох отца приходился на вдох сына. И как ни старался Алеша изменить это ритмом ходьбы, ничего у Алеши не получалось, не выходило ему облегчения - на каждый выдох отца все его существо отвечало вдохом: выдох - вдох, выдох - вдох... Алеша почувствовал, что он выдыхается, прибавил шагу и обогнал отца. Там, впереди, воздух был чист и легок, и в черноземе неба сверкали крупные, круглые звезды, шевелясь в своих лунках и бесшумно в них проворачиваясь.
Гриша лежал в раскладушке, упираясь локтем в брезент и держа на ладони свою пшеничную голову.
- Я тебе постелил,- сказал он Алеше.
И Алеша увидел у другой стенки кровать, накрытую одеялом с белым отогнутым уголком. Он разделся и лег, потянувшись, как кошка, и весь наполнился тем блаженством, той дивной, все утоляющей благодатью, которая так сладко поет о божественном происхождении наших трудов и нашей усталости.
Гриша громко зевал - до слез, но ни за что не хотел засыпать. Завелась в нем тревога, предчувствие, расплывчатая, но звонкая грусть - на тайном ветру дрожал ее ледяной колокольчик. Он вылез из раскладушки и тихонечко потащил ее к Алешиной кровати, шлепая по полу босыми ногами.
- Алеша... ты спишь?
- Не-е-ет! - отвечал Алеша сквозь дрему.
- Расскажи мне сказку, Алеша. Мне страшно, когда я не сплю, а темно.
- Ну, слушай. Слушаешь?
- Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.
- Погнался волк за двумя зайцами - и обоих поймал! Притащил за уши зайцев домой и спать положил в сковородку, чтобы съесть их тепленькими - одного зайца на завтрак, а другого - на ужин.
"Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу! Где же я это прочел, у какого заморского волка? - подумал волк, засыпая на овечьей шкуре.- Так или иначе, а друга у меня нет - последнего я съел на той неделе. И врага у меня нет - последнего я съел, когда съел последнего друга. Тоже, значит, на той неделе. Не с кем мне разделить обед и некому отдать ужин. Придется всех зайцев самому съесть. Все-таки я очень Одинокий Волк!" - и во сне он заплакал скупыми волчьими слезами.
Не всегда зайцу весело, когда волк плачет. Иногда волк плачет перед тем, как зайца слопать. Это он слезами зайчатину по вкусу подсаливает, потому что волк терпеть не может пресной пищи! И он бы ел траву, капусту, морковку, одуванчики с лютиками - чего проще? Ни за кем не гоняйся, рви себе травку да жуй в свое удовольствие! Он бы даже молоко давал и шерсть кой-какую - что ему, жалко? Но для этого пресная пища нужна, а от нее волку дурно делается и лютость его возрастает на семьсот шестьдесят процентов - и волк начинает кипеть! А волки кипят при ста градусах. Зайцы все это в первом классе проходят, как таблицу умножения, и контрольные пишут в конце каждой четверти. И все зайцы очень любят пословицу: "За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь!"
А тут погнался волк за двумя зайцами - и обоих поймал. Оба - серенькие, оба - пушистенькие, оба - ушастенькие. Но один - Трусливый с большой буквы, а другой - Храбрый с большой буквы. Трусливый Храброму говорит: "Ты тихо лежи, не дрожи, лапки сложи, притворись дохлым. Волк тебя как негодного и несъедобного выбросит! И меня вместе с тобой. Тут мы и дадим деру! А он за двумя зайцами погонится - ни одного не поймает!" Ты слушаешь?
- Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.
- А Храбрый Трусливому говорит: "Я не от страха дрожу. Я силу так собираю. Я весь напрягаюсь, чтобы волка шарахнуть кочергой по лбу! Я не могу притвориться дохлым, у меня не получится, я очень дрожать буду или от страха взаправду помру! Лучше я этого волка враз кочергой оглоушу!"
"Это очень и очень рискованно! - говорит Трусливый с большой буквы.- А вдруг ничего не получится? Кочерга сломается? Или волк догадается, о чем ты думаешь? Нет, мой план лучше!"
Тем временем волк стал заливисто похрапывать, посапывать, сладким сном спать... Ты слушаешь?
- Слушаю, слушаю! Я весь слушаю.
- Три, четыре! - сказал Храбрый заяц, прыгнул, как лев, схватил чугунную кочергу - и волка со всей силы по лбу звякнул! Бемц! И распластался волк тихонечко, гладенько, словно пустая шкура. Морда смирная, лапы враскидон - хоть пылесось его!
"Ура! За мной! - крикнул Храбрый.- Мы спасены!"
А Трусливый лапки откинул, ушами закрылся и притворился дохлым. "Мой план лучше! - сказал он Храброму.- А вдруг ничего не выйдет? А вдруг волк очнется, озвереет, помчится за нами, как бешеный,- и съест! Ведь не зря у зайцев пословица: "Волка ноги кормят!"
"Не ноги кормят волка, а зайцы!" - сказал Храбрый и удрал в лес на волю.
Там, на воле, мы с ним в друзьях - не разлей вода: песни поем, за морковками путешествуем, истории с приключениями рассказываем, волков по ночам пугаем страшными голосами.
А ты спи, не бойся! Ты спишь? - спросил в темноту Алеша.
Гриша сладко посапывал. Он враз вырубился из яви и рухнул с ее крутого берега в глубокое забытье, и мгновенно утоп, и зарылся на самое дно, как ракушка. Лишь в раннем детстве так быстро над нами смыкаются воды и воздухи сна, бесшумно вливаясь в каждую лунку сознания, в каждую щелку и трещину, в каждый глухой тайничок нашей памяти, где столько сахарных, черных семян закатилось, застряло, чтоб разрастись и во сне расцвести, и родить впечатленье и чувство.
- Ма-а-а-ма, ма-а-а-мочка...- Гриша вдруг заскулил во сне так тоскливо, так жалобно.
И сон отлетел от Алеши, как пуговица от шубы - на зимнем ветру, когда воротник нараспашку и холод в самую грудь! Он поежился и натянул одеяло, а потом нырнул под него с головой и начал дышать, чтоб тепло накопилось и в этом тепле чтобы снова завелся какой-нибудь сон. Но из этого ровным счетом ничего у Алеши не вышло.
Не к месту и не ко времени напала на него совершенная бодрость. Эта бодрость раскутала все дневное, все, что он так старался в душе усыпить, чтоб оно не заплакало. И вдруг завладела Алешей жгучая ясность. Он тихо оделся и вышел на воздух. Ночь показалась ему слишком светлой. Посмотрел на часы - половина третьего. В мастерской у отца горел свет. Отец работал.
Прижавшись к стене, краем глаза Алеша увидел высокий и узкий холст, прорисованный углем. Трифон сидел на сосновом ящике, пил чай из пиалы и разговаривал страшным шепотом вперемежку с неукротимой зевотой:
- Бессонница, старик, тугие паруса!.. И, Бог мой, какая только чертовщина не лезет в голову, когда у человека отшибло сон по прихоти судьбы. Прошлым летом, когда я писал декорации, там один парень приезжал... научный такой парень, с проблесками гениальности. Он не спит, я не сплю. А какое-нибудь дерьмо, вроде Чимкелова, спит, между прочим, безо всяких снотворных, часов по восемь, а захочет - по десять! Так вот мы с этим парнем, он тогда Пушкиным занимался и я ему, как художник, был до зарезу необходим, ты же знаешь рисунки Пушкина... так вот мы с этим парнем восстановили все пушкинские строки, пропущенные во всех собраниях сочинений.
- Как восстановили?! В каких собраниях сочинений?
- В обыкновенных. Мы их сочинили, старик! Представь себе! Сочинили, исходя из того, что Пушкин написал до этих строк и после.
- Какое варварство! Варварство!... Варварство...- задыхался от гнева отец.
- Да что ты так кипятишься? Работу, между прочим, приняли на ура. И напечатают. Когда времена будут получше. Ты какой-то, Боткин, закомплексованный и живешь не в данном конкретном времени, а в идеальном и вечном, где все единственно и неповторимо. Я бы даже назвал это болезнью Боткина! - и он хохотнул, страшно довольный своим каламбуром.- Ведь мы реставрируем старых мастеров - и ничего, весь мир смотрит, и сам черт не разберет, где кто приложился! Умеючи, и Пушкина реставрировать можно. Не всем, конечно. Но некоторым. Все можно, умеючи! Я бы, например, будь на то моя воля, все бы чумные кладбища раскопал. Уму непостижимо, сколько там золотых и алмазных фондов зарыто! Ведь тогда люди все лучшее с собой брали в могилу. Сами перед смертью надевали на себя все самое драгоценное: браслеты, перстни, серьги, гривны, диадемы, золотые плащи, туфли, цепи, нарукавники, набрюшники! Под мышку - золотой кувшин, пять кило весом, молитвенник в золоте, в серебре с брильянтами, изумрудами, сапфирами! Под голову - золотую подушечку ручного плетения! А ткани! А утварь! И все это лежит там веками, в полной целости и сохранности - потому как боятся копнуть. А чего бояться? Чего? Чумы? Так есть ведь противочумные костюмы! И можно воздух в окрестностях опылять какой-нибудь прививкой, чтобы население не пострадало. Все можно, умеючи! - Трифон хлебнул хладного чаю и прибойно выпустил воздух из легких.
Алеше вдруг показалось, что дыхание Трифона источает смрад бубонной чумы. Но что ужасней всего, подумал Алеша, так это то, что одно с другим связано... не вполне научно, но связано... Одной идеи разграбить чумные кладбища - вполне достаточно, чтобы вспыхнула вдруг чума, микроб которой живет вечно даже в могиле, облитой едкой известью, испепеляющей кости.
- Тебе, Трифон, в детстве какие прививки делали? - услышал Алеша глухой шепот отца.
- Какие всем. От кори, от коклюша, от дифтерита. От оспы первым делом. А что?
- Тебе еще сделали прививку от страха Божьего, от мук совести, можно сказать... На этот счет у тебя зверский иммунитет.
- Да уж! - хихикнул Трифон.- Нет как нет у меня болезни Боткина! Это я здорово про тебя скаламбурил - в самую бубочку! Болезнь Боткина, ха-ха, хо-хо!
Алеша тихонько вернулся в саклю. Маленький Гриша весь утонул в раскладушке, но спал вверх лицом, на котором играл удивительный свет, то ли лунный, то ли звездный, то ли еще более дальний и сильный.
- Я, пожалуй, сейчас поеду. Спать мне совсем не хочется. Сахар еще остался, на дорогу как раз хватит. Куплю в крайнем случае,- шепотом думал Алеша.- А маму Грише никто не заменит, он еще маленький, маму во сне зовет... а мама тоже где-то поблизости не спит, глаза таращит... Я, пожалуй, сейчас поеду.
Алеша вынул брата из раскладушки и перенес на свою кровать, - чтобы спать ему было просторнее. Сонный Гриша обнял Алешу за шею и засопел ему в ухо. Младший брат - это чудесно, подумал Алеша, это здорово, когда младший брат так беспомощно тебя обнимает во сне и сопит тебе в ухо! А всякое там... со временем тоже уладится. И притом с таким замечательным братом я сумею всегда сговориться, мы будем друг другу писать, и потом он приедет ко мне. Он же будет все время расти и все понимать, у него и сейчас уже есть характер и воля: "Человек! Мы же - братья!" - вспомнил Алеша, улыбнулся и подошел на цыпочках к печке, там он видел днем карандаш и ломтик картонки. Вот они! Улыбаясь, Алеша нацарапал карандашом на картонке несколько слов и положил это на видное место - не под подушку Грише, а рядом, на простыне, чтобы он, проснувшись, сразу нашел послание брата.
Теперь Алеша хотел оставить записку отцу. Без этого он никак уехать отсюда не мог. Но бумаги больше нигде не нашлось. Зато нашлась коробка с розовыми мелками. Алеша взял оттуда один розовый стержень и, сойдя бесшумно с крыльца, написал на дощатом столе: "Дорогой папа! С болезнью Боткина жить можно. Я поехал. Алеша".
Он отвязал лошадь и спустился с ней по тропе с другой стороны, чем приехал. Какая удача, что кто-то когда-то протоптал этот путь с противоположного склона! Теперь Алеша тихо-тихонечко объехал скалу и глянул вверх - на прощание. Там, в скале, наверху, была голубая сакля с верандой, побеленная известью с синькой. За одной голубой стеной спал Гриша, очень младший и очень родной брат, мама которого где-то поблизости таращит глаза и не спит. За другой голубой стеной курил и работал очень старший и очень родной отец, художник Сергей Боткин, который детям своим передал по наследству удивительную болезнь, можно сказать, душевную.
Алеша распрямился и полетел. На востоке уже золотилось прозрачное небо, расцветая воздушными облаками. Облака на глазах превращались в самую разную живность: вот прошел кудрявый баранчик, стал баранчик кудрявой собачкой, собачка - кудрявой кошкой, кошка - кудрявой курицей, курица стала бабочкой, бабочка - дальше некуда... вишней.
Вишневое солнце вышло из моря.
Всаднику было на вид лет тринадцать-четырнадцать. Краснокожий, с узким скуластым лицом, был он похож на индейца. Тугая повязка вокруг головы сдерживала длинную черную гущу над бронзовым лбом. Во всем его облике наблюдалось достоинство души, мыслящей самостоятельно и привыкшей изъявлять свою волю. На миг он крепко закрыл глаза, ослепленные ранним солнцем. И увидел такое же солнце в собственном существе. Это солнце вращалось, разгораясь в космическом мраке телесной Алешиной жизни. Он хотел удержать это солнце навеки в недрах одушевленного тела, - чтоб, как сердце, пульсировал в ритме Вселенной этот огненный мускул неба.
Но, разгораясь, Алешино солнце уменьшалось, сжималось и, наконец, превратилось в блестящую синюю звездочку, которая скрылась в незримых звездных глубинах, однажды родясь в глубинах Алешиной жизни, ослепленной утренним солнцем Крыма. Эта звездочка, подумал Алеша, свободно плавает в каждой капле пространства и времени, но рождается лишь в человеке, который смотрит на солнце, а потом закрывает глаза. Эта звездочка - вроде мысли, когда моя воля ее отправляет плавать по миру, чтобы узнать, какой он... там, где я никогда не буду.
И он снова проделал свой солнечный фокус, и снова в Алеше зажглась блестящая синяя звездочка - посланница солнца.
От такой чепухи, доступной каждому смертному, он испытал сильнейшее чувство любви, свободы и счастья. И запел свою какую-то песню без слов - как птица. Как птица, поющая благодарение радости.
Многие утром спустились с гор по разным делам - на бахчу, на кукурузное поле, на почту, в контору. И увидели, как промчался поющий всадник. Они сочли это добрым знамением - и дела их пошли на лад.
1980